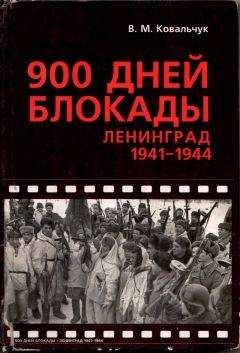время уроков, я постоянно видел, как частыми синхронными нырками плыли по морю дельфины.
Проживая в Крыму, я активно тренировал свою волю. Когда я увидел, что мои сверстники, местные аборигены, свободно прыгают головой вниз с пирса в море, я удивился их смелости и решил стать на них похожим. Сделать это было непросто. Однако я переломил себя и вскоре отчаянно нырял в соленую воду с трехметрового пирса; вода была не шибко теплая, но все-таки уже прогрелась к маю. Потом мы стали прыгать в море вместе с Володькой Черепановым, с которым удирали в тихий час на побережье; Володька приехал в Крым из Томска, море вообще никогда раньше не видел. Поначалу он тоже робел, но я его подбадривал, и он стал нырять еще лучше, чем я: очень плавно входил в плотную соленую воду.
Потом у меня появилось еще одно экстремальное морское развлечение, от которого даже Володька Черепанов отказался. Я полюбил прыгать в огромную, страшную, пугающую пляжников волну. Она крутила, переворачивала меня в своей стихии, как стиральная машина — белье. И выбрасывала на берег. Обессиленный, но почему-то жутко счастливый, я лежал на песке.
Там, в интернате, мой другой соученик, Саша Коломийцев из Харькова, прочитал на одном школьном «капустнике» стихотворение «Вересковый мед». Я был потрясен. Это стихотворение как-то особенно запало в душу. А Саша Коломийцев мне казался настоящим поэтом, почти как Лена. Я мало тогда знал других поэтов.
Однажды в школе произошел неприятный инцидент. У моего одноклассника — киевлянина Сережи Смирнова — пропал фотоаппарат. Ко мне подошла наша воспитательница Лидия Ивановна и, строго глядя мне в глаза, сказала:
— Женя, это не ты, часом, украл фотоаппарат у Сережи? Он тебя подозревает.
Я даже растерялся. Таких претензий мне раньше никогда не предъявляли.
— Нет, — ответил я, — ничего я не украл. У меня и свой фотоаппарат есть, «Смена‑7».
— И все-таки, — парировала Лидия Ивановна, — нам придется проверить твой чемодан.
— Пожалуйста, проверяйте, — ответил я. — Но только вы ничего не найдете. Даже если бы я украл, не такой уж я дурак, чтобы хранить украденную вещь у себя в чемодане.
Мы пошли в кладовую. Я открыл свой чемодан и на самом верху (о ужас!) увидел чужой фотоаппарат. Это был видавший виды, старенький потертый ФЭД.
— Это чей фотоаппарат? — спросила, нахмурив брови, суровая и непроницаемая Лидия Ивановна.
— Не знаю, — промямлил я. И понял, что случилось нечто страшное. Как теперь докажешь, что ты не верблюд?!
А потом было открытое пионерское собрание. И наш председатель совета отряда, мой товарищ Володька Черепанов, говорил обо мне жутковатые слова («как ты мог, Евгений, разве так ведут себя советские люди, мы не ожидали…») и даже поставил вопрос на голосование: «Быть Евгению в пионерах или не быть?»
Я стоял посередине класса и, точно главный герой фильма «Всадник без головы», молчал. Уже тогда, в детстве, я понимал, что спорить с толпой, даже если ты прав, бесполезно. Тебя все равно не услышат и не поймут. И уже тогда я понимал, что молчание — весьма сильное оружие, оно обескураживает оппонентов. А вдруг он и в самом деле не виноват? Ведь если не оправдывается, то, может быть, правда на его стороне?
Короче, я стоял и молчал. А на меня смотрели десятки глаз моих товарищей и — глаза моей прекрасной возлюбленной Лены.
Именно Лена встала и сказала:
— Володя, ребята, я никогда не поверю, что Женя мог что-то украсть. Это невозможно. Я знаю его, наверное, лучше других.
— Сидорчук, мы все знаем, знаем, — одернула Лену Лидия Ивановна. — Всем известно о ваших отношениях с Евгением.
Лена вспыхнула и села на место.
Володька Черепанов, опасливо глядя на Лидию Ивановну, поставил вопрос на голосование:
— Кто за исключение Евгения из пионеров?
И тут произошло нечто неожиданное, чему я поражаюсь до сих пор.
За мое исключение не проголосовал никто. В самом деле — никто! И даже Володька Черепанов только воздержался.
А потом встал поникший Сережа Смирнов и признался, что это он сам подстроил кражу, мол, хотел мне отомстить. И разрыдался.
Лидия Ивановна увела его в палату…
Как потом рассказал мне сам Сережа, он был с детских лет влюблен в Леночку Сидорчук и не мог видеть, как между ней и мной развивается любовь.
Я, разумеется, простил Сережу.
А класс на него рассердился, ему объявили бойкот. И ему пришлось вернуться домой, в Киев. За ним приехали родители.
А вскоре закончился и учебный год, мы все разъехались по домам, навсегда сохранив нежную память о Крыме.
…Мы, крымские одноклассники, до сих пор переписываемся. Сережа Смирнов, кстати, женился на Леночке Сидорчук, у них сейчас трое детей и пятеро внуков.
Эта идея пришла нам в голову на улице Армянской, в городе Львове. Старое здание слева, с облупившейся, облетевшей штукатуркой и проступающими, как ребра, рядами кирпичей отбрасывало тень на наш уютный плетеный ротанговый столик, на котором теплилась только что принесенная джезва с самым лучшим в мире кофе.
Ее звали Марина.
Почему мы решили поехать в Крым в том далеком одна тысяча девятьсот девяносто девятом году, уже не помнит никто. И сейчас, когда я смотрю на ее окровавленное тело, я вспоминаю ее смех и не понимаю, почему так долго не едет «неотложка».
Она смеялась как-то по-особенному. Ее миндалевидные глаза превращались в две загадочные, блестящие щелочки. Снежно-белые зубы ослепляли тебя; правой рукой она небрежно прикрывала глаза, тем самым сообщая собеседнику, что ей неловко от собственного смеха.
Сейчас глаза ее были закрыты. Я стоял на коленях и держал ее голову. Камни были крупные и сильно давили на коленную чашечку правой ноги.
Санитар подошел сзади. Его гулкий, строгий голос возвратил меня в ужасную реальность.
— Вы «неотложку» вызывали? — спросил он, словно не видя ее тело, безжизненное и безучастное.
Я посмотрел на него, ничего не ответив.
За левым плечом санитара я увидел фельдшера с коричневым чемоданчиком, раненым красным крестом, в правой руке. Фельдшер приближался, прыгая с камня на камень, и его глаза были широко раскрыты и сосредоточенны.
— Вы родственник? — спросил он равнодушным голосом.
Я задумался. Мы точно были родными людьми, но не были родственниками, и я ответил:
— Нет.
Он обошел санитара слева, немного оттолкнув его плечом, присел на корточки, поставил перед собой чемоданчик, раскрыл, заглянул в него, как заглядывают женщины в ридикюль в поисках вчерашнего дня, ничего не нашел, стоящего внимания, и вставил в уши
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](https://cdn.my-library.info/books/397705/397705.jpg)